Президент США Байден не так уж неправ, когда твердит, что конфронтация между Америкой и Китаем не только геополитическая схватка двух сверхдержав, но и соревнование двух систем, от исхода которого зависит ответ на вопрос, можно ли в XXI веке по-прежнему считать демократию, в определении Черчилля, «наихудшей из форм правления за исключением всех остальных, которые когда-либо испытывались»
«Оценивая столетнюю борьбу Компартии Китая, мы должны ясно понять, в чем кроется наш успех в прошлом и что может гарантировать наш успех в будущем», – провозгласил генсек ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая в Пекине 1 июля на юбилее правящей партии. Тем самым Си сформулировал два главных вопроса о природе успеха самой долгоживущей правящей Компартии в мире.
Во-первых, как же вышло, что КПК не только более 70 лет удерживает власть в огромной и сложной стране, но и превратила некогда отсталый и разоренный войной Китай в державу, соперничающую с Америкой за глобальное лидерство? А во-вторых, как партия намерена удерживать власть и дальше, учитывая не только многочисленные внутренние проблемы КНР, но и растущее благосостояние китайцев, а вслед за ним – требовательность к качеству госуправления и ожидания, что уровень жизни будет неуклонно повышаться?
Коммунисты или мандарины?
Короткий ответ на первый вопрос звучит так: китайские коммунисты сумели построить адаптивную систему власти, которая сочетает в себе элементы однопартийной диктатуры ленинского типа и традиционной для Китая системы бюрократии, воспроизводившейся в разных изводах начиная с III века до нашей эры.
Когда КПК создавалась в 1921 году как борющаяся за власть партия революционеров-марксистов, решающее влияние на ее организацию имела «старшая сестра» – РКП(б). Советские эмиссары сыграли огромную роль и при строительстве КНР после 1949 года, когда коммунисты во главе с Мао Цзэдуном взяли власть, победив в гражданской войне.
Советский опыт был также востребован Пекином и в критический для КПК момент перезагрузки социально-экономической модели в эпоху Дэн Сяопина – только уже не позитивный, а негативный. Глядя на крах КПСС, развал СССР и череду «бархатных революций», похоронивших Варшавский договор, китайские коммунисты учились, как делать не надо.
Возникшая в итоге в Китае система организации власти, экономики и жизни общества органично сочетает и советский опыт, и традиционную для Китая бюрократическую модель. Как и в Советском Союзе, выстроенная по лекалам КПСС партия контролирует все сферы жизни общества, выступая «руководящей и направляющей силой», а партийная иерархия стала реальной нервной системой в механизме управления – в отличие от подчиненной ей иерархии официальных государственных должностей.
В КНР есть крупный госсектор, госкомпании доминируют в стратегических секторах экономики (банки, ВПК, телеком, энергетика и так далее), а внутри госкомпаний партсекретари по-прежнему важнее гендиректоров, хотя в последнее время эти роли нередко совмещаются для улучшения качества управления. Но в то же время в современном Китае есть многие вещи, напоминающие традиционный для страны уклад, – и напрочь отсутствовавшие в советской модели после сворачивания НЭПа.
Прежде всего, это мощная рыночная экономика. Частный бизнес, начавший расти в 1980-х годах с разрешения партии, обеспечивает сейчас более 80% рабочих мест, 70% инноваций и 60% роста ВВП. Подобный гибрид капитализма с сильным госучастием при централизованной авторитарной власти удивляет западных наблюдателей и нередко считается экспериментом, который вряд ли окажется жизнеспособным.
Однако в традиционном Китае такая модель существовала на протяжении многих веков: рыночное хозяйство органично уживалось с императорской властью и бюрократической вертикалью. В конфуцианской традиции чиновничий труд считался более подходящим предназначением для благородного мужа (君子), чем коммерция, но это отнюдь не мешало миллионам людей заниматься торговлей и ремеслами, формировать крупные купеческие дома, конкурировать между собой и следовать законам рынка – с периодическим вмешательством правительства в отдельные сферы регулирования (первый трактат, обсуждающий отношения частного бизнеса и госмонополий, был написан в Китае в I веке до нашей эры).
В этом плане капитализм Китаю исторически не совсем чужой (Макс Вебер даже считал конфуцианскую систему ценностей самой близкой к «духу капитализма» после протестантизма и иудаизма). Короткий период искоренения частной собственности и попыток строить исключительно государственную экономику при Мао – для Китая отход от исторической нормы.
Китайские коммунисты оказались настоящими марксистами в понимании того, что только жизнеспособный экономический базис может обеспечить устойчивость политической надстройки. В отличие от КПСС для КПК таким базисом стала не закостеневшая плановая экономика, а гибкая рыночная. Она дала выход коммерческому таланту и жажде наживы миллионов людей (недаром Дэн Сяопин заповедовал согражданам первым делом обогащаться), встроила страну в глобализацию и мировое разделение труда, обеспечила Китаю движение вверх по цепочкам добавленной стоимости, а заодно позволила партии сохранить командные высоты в народном хозяйстве как регулятору и как собственнику.
Отказавшись от догматического контроля над экономикой и позволив кошке ловить мышей без споров о ее цвете, китайские коммунисты также ослабили хватку в вопросах личных свобод сограждан. В 1990-е и 2000-е партия научилась править, не слишком залезая к китайцам в спальни, на книжные полки или в шкафы с одеждой.
Конечно, уровень цензуры в СМИ и культуре, а также степень контроля властей над общественным сознанием в Китае выше, чем в демократиях и даже сегодняшней России. Тем не менее подавляющее большинство китайцев живут с вполне приемлемым для них уровнем вмешательства государства в частную жизнь.
В «новую эпоху» Си Цзиньпина гайки вновь начали закручивать (особенно для управленцев, а также для представителей деловой и интеллектуальной элиты), но объем личных свобод все равно пока достаточен для большинства китайцев, исповедующих прагматический материализм и стремящихся к вещам вполне земным: обильной и качественной еде, брендовой одежде, дорогим гаджетам и автомобилям, зарубежным поездкам, сексуальным приключениям, долголетию и престижному образованию для детей.
Сама же партия, сохраняя многие ленинские принципы организации, все больше становится похожа на традиционную для Китая систему управления, где узкая прослойка образованных людей по результатам экзаменов получает должности в разветвленной бюрократической иерархии. Конечно, 95-миллионная партия не состоит из одних чиновников (а на рубеже 2000-х в нее по указанию генсека Цзян Цзэминя активно начали интегрировать даже капиталистов), однако партийцы внутри бюрократического механизма давно подчиняются многим правилам, придуманным для управленцев еще в имперские времена – например, запрету занимать крупные должности в родной провинции.
Партия по-прежнему не может отказаться от идеологии «китаизированного марксизма» (马克思主义中国化), но сам «китайский коммунизм» давно отошел от изначального смысла учения Маркса. В юбилейной речи Си Цзиньпина слова «великое возрождение китайской нации» звучали куда чаще, чем отсылки к классикам единственно верного учения. Национализм постепенно становится идеологией правящей партии, хотя выбросить слово «коммунизм» из своего названия и стать просто Китайской партией (中华党) КПК пока не может.
Красная династия на новый лад
Если модель управления КПК все больше напоминает традиционные для Китая образцы, то что должно уберечь ее от повторения судьбы предыдущих династий? Ведь на протяжении многих веков китайская история развивалась по единому сценарию династического цикла (朝代循环): первые правители объединяли и расширяли страну, население прибавлялось и богатело, но затем демографическое давление на землю увеличивалось, налоговое бремя росло, двор все больше погружался в роскошь и интриги, и в итоге династия приходила к краху в результате разрушительного крестьянского восстания, иностранного вторжения или их сочетания. Перефразируя заданный Си Цзиньпином вопрос, что же поможет стране и партии избежать похожего сценария в будущем?
Безусловно, у Китая много проблем: и растущее социальное расслоение (несмотря на объявленную генсеком победу над абсолютной бедностью), и экологическая ситуация, и старение населения, и соперничество с США, которое не может обойтись без издержек, и всякие неожиданные кризисы вроде пандемии коронавируса. Однако нынешняя версия китайской системы власти готова к этим и другим вызовам лучше любой предшествующей.
Прежде всего, в основе системы уже не аграрная экономика, чувствительная к неурожаям, природным катаклизмам, а главное – к количеству едоков (или потенциальных бунтовщиков) в расчете на гектар, вернее, му (亩) земли при сравнительно медленном прогрессе сельскохозяйственных технологий. Сейчас Компартия управляет второй страной мира по размеру номинального ВВП (и первой, если считать ВВП по паритету покупательной способности), самой быстрорастущей крупной экономикой с самыми большими международными резервами.
Пусть Китай не полностью обеспечивает себя продовольствием и природными ресурсами, страна может купить их на глобальных рынках (и поставила на ближайшую пятилетку цель уменьшить зависимость от их импорта), а главное – умеет производить все, от тапок и гаек до космических аппаратов и суперкомпьютеров. Вызванные экономическими катаклизмами массовые восстания, столь часто губившие династии в прошлом, Китаю сейчас вряд ли грозят.
Во-вторых, сама управленческая конструкция «красной династии» заметно отличается от императорских династий прошлого: власть не передается по наследству, родственники руководителей оказывают куда меньшее влияние на дела управления, а сами бюрократы куда более профессиональны, чем мандарины, получавшие чиновничьи должности за умение писать эссе о классических стихах.
Си Цзиньпина справедливо называют лидером, который отошел от сформированной в 1990-е и 2000-е модели регулярной сменяемости верховной власти (раз в десять лет) и коллегиальности при принятии решений. Однако даже Си будет передавать высшие посты в партии и государстве не своей 29-летней дочери Си Минцзэ (习明泽), а профессиональному бюрократу из числа своих протеже, прошедшему сито партийной карьерной лестницы. В этом плане «красная династия» похожа на выдуманный еще в Древнем Китае «золотой век», когда мифические императоры Яо, Шунь и Юй (尧舜禹) передавали власть не своим кровным родственникам, а наиболее достойным сынам Поднебесной.
Си Цзиньпин не отказывается и от сложившейся системы партийной иерархии во главе с ЦК, Политбюро и его Постоянным комитетом, хотя при новом генсеке эти коллективные органы все больше напоминают традиционный для Китая совет верховных сановников при императоре, а не совет директоров современной корпорации с одинаковым правом голоса у всех участников. Зато теперь Политбюро не бывает парализовано из-за вето отдельных руководителей, движимых не интересами державы, а личной и клановой корыстью, как нередко случалось в 1990-е и 2000-е.
Big data наперевес
Еще одним важным ингредиентом пилюли долголетия для китайской Компартии стали новые технологии. Современный транспорт окончательно связал страну воедино, резко повысив мобильность граждан, – китайцы сейчас куда чаще мигрируют внутри страны, чем когда-либо в китайской истории. Важным следствием этого становится все большая однородность ханьского этноса, составляющего свыше 90% населения – и китаизация нацменьшинств.
До середины ХХ века ханьское большинство все еще состояло из субэтносов (民系), которые говорили на малопонятных друг для друга диалектах и жили преимущественно на своих исторических территориях с границами, восходящими к древним царствам первого тысячелетия до нашей эры. Но начавшаяся в 1980-х быстрая урбанизация и значительно возросшая транспортная связанность страны запустили беспрецедентное смешение этих субэтносов в единую нацию, в том числе через браки между выходцами из разных провинций.
Большую роль в этом нацстроительстве играют стандартизованные образовательные программы, а также доминирование общенационального языка путунхуа (普通话). С развитием национальных СМИ и цифровизацией общения он стремительно разъедает разделявшие китайцев веками диалекты, включая даже заметно отличающийся от стандартного языка пекинский.
При Си Цзиньпине власти начали сознательно приближать трансформацию самых мощных диалектов из языков общения в музейные экспонаты. Главным объектом борьбы предсказуемо стал кантонский диалект 106-миллионной провинции Гуандун, на котором говорят и в Гонконге (нормативный путунхуа и гуандунский считаются диалектами одного языка, а не разными языками лишь из-за единства Китая, хотя носители не понимают друг друга на слух – разница между ними как между датским и немецким).
В итоге ситуация, когда императорская власть и элитарная культура с письменным языком вэньянь (文言) и устным «чиновничьим языком» (官话) в роли lingua franca соединяла весьма обособленные друг от друга культурно и лингвистически регионы, за последние полвека сменилась намного более однородной языковой и культурной реальностью.
«Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, соединяются, а после продолжительного единения распадаются» (天下大势,分久必合,合久必分), – описывает традиционный для Китая цикл классический роман XIV века «Троецарствие» (三国演义). Представить себе сейчас, что Китай распадется по границам эпохи «сражающихся царств» (战国) V–III веков до нашей эры, гораздо сложнее, чем еще сто лет назад во времена гражданской войны, когда страну примерно по этим линиям поделили силовики-милитаристы.
Современные технологии обеспечили не только беспрецедентную однородность объекта управления, но и невероятную для Китая глубину проникновения управленческой системы в толщу народной жизни. Если раньше не говоривший обычно на местном диалекте уездный чиновник и несколько его помощников были последним звеном властной вертикали, в которой китайская бюрократическая машина пыталась нащупать массу подданных (а с ней и налоговую базу, и рекрутов для войск), то сейчас партийно-бюрократический механизм с ячейками КПК опутывает всю страну: от бедных уездов в высокогорном Тибете до советов директоров торгующихся в Нью-Йорке технологических гигантов.
Никогда еще китайская власть не знала о жизни китайцев так много, как в эпоху развешанных по всей стране видеокамер и оставляемых гражданами ежесекундно цифровых следов, которые объединяются в прозрачные для партии ряды больших данных. Правители Китая получили возможность гораздо точнее диагностировать возникающие проблемы (и нередко – с опорой на объективные данные, которые можно собрать из центра, а не исключительно на доклады местных чиновников) и оперативнее реагировать на них.
Именно технологии могут стать для Компартии рецептом не только долголетия, но и бессмертия. Ведь благодаря им партия теперь может не только контролировать, но и программировать поведение управляемых.
Партия бессмертна?
Идеологию традиционной китайской бюрократической машины нередко описывают как конфуцианство. Однако изречения самого Кун-цзы (孔子, 551–479 до н.э.) и трактат главного конфуцианского философа Мэн-цзы (孟子, 372–289 до н.э.) можно считать лишь отдельными камнями в фундаменте конструкции, которая на протяжении веков оставалась идейной основой для многочисленных зданий китайской бюрократии разных эпох.
Куда большее значение для понимания китайской управленческой идеологии имеет философ Сюнь-цзы (荀子, 313–238 до н.э.), синтезировавший воззрения конфуцианцев (儒家) и их идейных оппонентов – легистов (法家). Именно спор китайского «осевого времени» о природе человека может дать ключ к пониманию того, как Си и его сподвижники видят рецепт бессмертия для партии.
Если не вдаваться в нюансы полемики, конфуцианцы ратовали за то, чтобы управление строилось на воспитании тех же чувств между правителями и подданными, на которых в идеальном мире держатся большие патриархальные семьи. Правитель должен быть подобен заботливому строгому отцу, чиновники – старшим братьям, а подданные – почтительным детям. Для легистов же главным инструментом управления являются не гуманность (仁), чувство долга (义) или сыновья почтительность (孝), а награды и наказания (赏罚).
Коренное различие – принципиально разное понимание природы человека. Для главного конфуцианского философа Мэн-цзы человек по природе изначально добр, а потому управлять людьми нужно моральным примером. Для легистов вроде Гунсунь Яна (公孙鞅, 390–338 до н.э.) и Хань Фэя (韩非, 325–250 до н.э.) природа человека иная: люди не добродетельны от рождения, а воспринимают лишь наказания за плохое поведение и награды – за хорошее.
Человек по природе своей движим жаждой славы и наживы, а также страхом. Поэтому правитель должен закреплять в законах, что такое хорошо и что такое плохо, а затем вознаграждать за правильное поведение (для легистов оно заключалось преимущественно в укреплении военной мощи и богатства царства) и карать за неправильное. Чеканная формула Сюнь-цзы по этому поводу: «Природа человека дурна, а доброе в людях есть приобретенный навык» (人之性恶, 其善者伪也).
Спор китайских современников Платона и Аристотеля о природе человека имел для бюрократической машины Поднебесной большое практическое значение. К идеям легистов о наградах и наказаниях, а также значении писаного права восходят многотомные уголовные кодексы различных китайских династий. Конфуцианские же воззрения сформировали основу традиционной пропаганды и системы образования.
Проблема в том, что на протяжении многих веков, сочетая объединенные Сюнь-цзы конфуцианские и легистские подходы в управленческой практике, властители Китая вынуждены были полагаться на людей с их несовершенной природой и на крайне несовершенные технологии, не позволявшие контролировать ситуацию на местах из далекой столицы. Но теперь в руках у Пекина появляется принципиально новый инструмент – цифровизированная «система социального доверия» (社会信用体系), которую на русский также переводят как «система социального кредита» (китайское слово 信用 имеет оба значения).
Пока что китайские власти находятся на стадии пуско-наладки системы, которая на основании всей доступной государству совокупности данных и с помощью безличного искусственного интеллекта сможет присваивать гражданам, компаниям и госорганам определенный рейтинг социального доверия, а затем, оценивая их поведение в режиме реального времени, повышать или снижать этот рейтинг.
К значению рейтинга будет привязана система наград за правильное, с точки зрения партии, поведение и наказаний – за неправильное. Причем наказывать и поощрять будут не просто за отдельные поступки, а за всю совокупность «моральных устоев» с накоплением в системе памяти о всех зарегистрированных действиях индивида или компании.
И наказания, и награды будут тотальными – совершив какой-то проступок и снизив тем самым свой рейтинг, человек будет нести потери по всем фронтам, причем не только сам гражданин, но и его ближайшие родственники (например, дети проштрафившихся родителей не смогут попасть в престижную школу, каким бы ни был уровень их знаний). Таким образом, в новом виде будет возрождена традиционная система круговой поруки.
Система социального доверия активно тестируется в разных регионах Китая, и дата ее полномасштабного общенационального запуска пока неясна, поскольку властям предстоит не только решить технологические проблемы, но и ответить на ряд принципиальных вопросов, прежде всего – как сводить человеческое поведение к единому цифровому знаменателю? Условно говоря, сколько баллов к рейтингу может добавить волонтерская деятельность или регулярное цитирование сборников Си Цзиньпина «Об управлении государством» (习近平谈治国理政) и сколько баллов вычтут за регулярное посещение баров или чтение New York Times в обход запретов.
Но если (а скорее – когда) подобные технологические и концептуальные развилки будут пройдены, в руках у партии окажется небывалый по силе инструмент социального контроля, который сможет не только оценивать поведение граждан, но и программировать его – в духе легистского учения о человеческой природе, стремящейся к наградам и избегающей наказаний. О подобном инструменте древнекитайские политтехнологи вряд ли могли даже мечтать.
Одну важную победу при этом партия одержала, еще не запустив систему. По данным исследований, проведенных Свободным университетом Берлина методом онлайн-анкетирования, почти 80% опрошенных китайцев систему поддерживают, а доля людей, выступающих против ее внедрения, составляет всего 1%.
Разумеется, точность подобных исследований оценить сложно – китайское общество стало гораздо более закрытым, и любые социологические данные из КНР не стоит слепо принимать на веру. Тем не менее эмпирические наблюдения за знакомыми из КНР подтверждают эти выводы: большая часть китайцев уверены, что препятствовать введению системы бесполезно; что государство и так давно все знает о гражданах и что зашитые в систему «бонусы» достаточно привлекательны, а штрафные санкции достаточно болезненны, чтобы начать выстраивать свое поведение в соответствии с пожеланиями партии.
Поэтому президент США Джозеф Байден не так уж неправ, когда твердит, что конфронтация между Америкой и Китаем не только геополитическая схватка двух сверхдержав, но и соревнование двух систем, от исхода которого зависит ответ на вопрос, можно ли в XXI веке по-прежнему считать демократию, в определении Черчилля, «наихудшей из форм правления за исключением всех остальных, которые когда-либо испытывались».
Разумеется, пока что выстраиваемая Си «система социального доверия» – лишь субстанция в лабораторной пробирке, над которой колдуют партийные айтишники, гэбешники и политтехнологи, а ее тотальность и функциональность после запуска далеко не гарантированы. И все же, если модель, которую под руководством Си строит китайская Компартия, начнет существовать как постоянно докручиваемая разработчиками операционная система, это станет весомым свидетельством в пользу того, что старые китайские циники вроде Хань Фэя и Сюнь-цзы понимали природу людских масс куда лучше, чем их современник Аристотель или отцы христианской церкви.






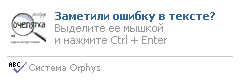










Правила комментирования
comments powered by Disqus